- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
Санскрит. «Погрузиться в сказочный мир Востока»
«Индийские философы были утонченными интеллектуалами»: рассказ о том, чем отличается логика, заложенная в санскрите, от европейской системы мышления и ее смеховой культуры. В выпуске, посвященном санскриту, об особенностях этого языка, причинах и опыте его изучения, а также практиках перевода рассказывают Наталия Канаева и Дмитрий Комиссаров.
— Как получилось, что вы стали изучать санскрит? С чего началась ваша история его изучения?
Наталия Канаева, профессор Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
— В далеком 1975 году, когда я была студенткой 1-го курса вечернего отделения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, на нашем курсе нашлись энтузиасты, которые стали собирать группу для факультативного изучения санскрита, так как учебным планом для философов санскрит не предусматривался. Студенты договорились на историческом факультете с преподавателем А.А. Вигасиным, что он будет с нами заниматься. Тогда уже я интересовалась йогой и поняла, что есть шанс выучить язык, на котором писались тексты по йоге, и записалась в группу.
На первое занятие пришли человек 30 первокурсников, затем от занятия к занятию количество студентов в группе уменьшалось. К началу 1976 года нас осталось только двое. Мы занимались по «Руководству к элементарному курсу санскритского языка» Г. Бюлера, переведенному на русский язык с немецкого в 1923 году учениками Ф.И. Щербатского. Никаких других вспомогательных материалов не было.
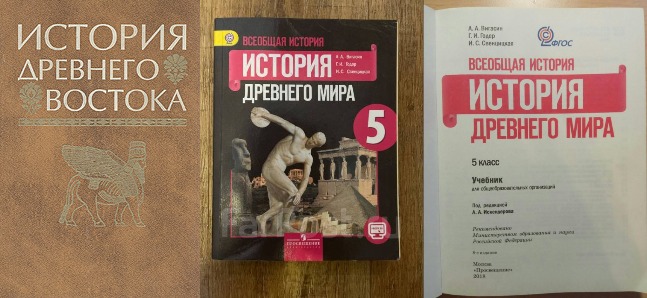
Дмитрий Комиссаров, руководитель образовательной программы «Языки и литература Индии», доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
— Когда я учился в старших классах школы в Пятигорске, у меня появилось детское увлечение восточной мистикой и философией, больше всего китайской. Я читал переводы древних текстов и исследования по даосизму и буддизму — мне хотелось погрузиться в какой-то сказочный мир Востока и быть непохожим на других. В результате по окончании школы я решил поехать в Москву и поступить на китаистику, но попал в итоге на программу «Филология Индии». Это был Институт восточных культур и античности РГГУ, нынешний Институт классического Востока и античности на факультете гуманитарных наук ВШЭ. Поначалу я грустил, потому что индийская культура меня тогда не привлекала. Но компания, в которую я попал, — как преподавателей, так и сверстников — оказалась настолько чудесной во всех отношениях, что я в конце концов полюбил Индию. Нам в более-менее равном объеме преподавали два языка — хинди и санскрит. Санскрит был мне гораздо ближе, поскольку я по-прежнему был увлечен особой (как мне тогда казалось) восточной мудростью. Кроме того, преподаватели подсказали мне, что я смогу не упускать из виду Китай, если буду заниматься изучением буддийской литературы. Так в итоге и случилось: я посвятил себя исследованию буддийских текстов на древнеиндийских и китайском языках, но санскрит по-прежнему находится в центре моего внимания. А что касается того романтического отношения к культуре Индии, которое вдохновляло меня на учебу в студенческие годы, то оно удачным образом трансформировалось в научное любопытство, которое теперь дает мне силы для усердной работы.
— С какими сложностями вы сталкивались при изучении этого языка? Как удалось их преодолеть?
Наталия Канаева
— Трудности были связаны с тем, что учебник был переводной, разъяснений грамматических правил в нем было чрезвычайно мало, да и язык мы учили только по книге. К тому же занятия у нас были один раз в неделю, одна пара. Для хорошего владения языком этого мало. Филологи, например, учат санскрит 5 дней в неделю, и пар у них гораздо больше. Речь должна звучать, а не только прочитываться по книге, тогда она усваивается быстрее, тогда закрепляется правильное произношение и навыки устной речи.
Не могу сказать, что мне удалось преодолеть проблему свободного владения разговорным санскритом. Для этого у меня не было языковой среды для общения. Но с появлением интернета открылось больше возможностей слышать звучание санскритской речи, и я с удовольствием их использую: слушаю мантры на санскрите или чтение учебных и классических текстов на санскрите. Например, смотрю видеоролики Эдгара Лейтана — нашего бывшего согражданина по СССР, читающего учебник В.А. Кочергиной.
Дмитрий Комиссаров
— Не знаю, стоит ли касаться особенностей устройства санскрита, чтобы говорить о технических трудностях, с которым сталкиваются те, кто решается освоить этот язык. Это древний язык с богатой историей и сложной грамматикой. Отсюда следует, что, во-первых, для его изучения придется запоминать много слов и грамматических правил, а во-вторых, на нем придется читать тексты, понять которые непросто, поскольку от авторов этих текстов нас отделяют тысячи лет и тысячи километров. Но для исследователя последнее как раз и есть самое интересное — столкнуться с чужой культурой, попытаться понять ее и рассказать о ней другим, а через это — научиться лучше понимать свою культуру.
Пожалуй, самым сложным для меня при изучении санскрита было справляться с периодически возникавшим во мне опасением, что я как специалист буду невостребован. Но я рад, что сейчас интерес к санскриту только растет и что все больше таких людей, которые изучают язык не только для того, чтобы на нем говорить или читать, но и исключительно из чистого интереса.
— Какие советы, которые могли бы помочь в процессе обучения, вы можете дать тем, кто изучает санскрит?
Наталия Канаева
— Тем, кто изучает санскрит самостоятельно, рекомендую использовать возможности интернета. Там много разных учебников с большим количеством упражнений, много аудио- и видеофайлов в помощь изучающим санскрит. По этим дополнительным материалам можно тренировать навыки устной речи и перевода литературных произведений. У нас есть также общества любителей санскрита, которые публикуют много интересных материалов в помощь изучающим язык. К ним можно присоединиться и общаться с пользой для освоения языка.
Дмитрий Комиссаров
— Я иногда сравниваю изучение языка с занятием спортом. Чтобы научиться поднимать большой вес, надо заниматься регулярно и не бояться рутины. Применительно к языку это означает, что надо подходить к нему не реже 3–4 раз в неделю, не бояться нудных, порой на первый взгляд исключительно механических упражнений, таких как прописывание новых слов по несколько строчек, подстановка к словарным основам требуемых контекстом падежных или личных глагольных окончаний и т.п. Очень помогает зубрежка — чем больше, тем лучше. Выбирайте понравившийся вам текст и заучивайте его наизусть. Но не стоит забывать и про вдохновение — без него выучить язык сложно. Выбирайте для чтения те санскритские тексты, которые вам интересны, читайте околосанскритскую литературу или вообще литературу по истории и культуре древней и средневековой Индии. Если вы начинающий исследователь-санскритолог, то одним из самых богатых источников вдохновения для вас может оказаться общение со старшими коллегами на конференциях, публичных лекциях, летних школах или индологических учебных курсах.

— Почему сегодня нужен санскрит? Нужен ли он кому-то, кроме специалистов? Если нужен, то зачем?
Наталия Канаева
— А зачем сегодня нужны латынь и древнегреческий? Все древние языки, на которых создан огромный корпус литературы разных жанров, продолжают быть актуальными не только для специалистов и даже не только для интеллектуалов.
Они вошли в ткань мировой культуры, они являются сокровищницами информации по истории культур и человеческих сообществ (племен, этносов, наций, государств). Конечно, историкам, специалистам в области сравнительного языкознания или структурным лингвистам сокровищница языка открывает гораздо больше интересного, чем неспециалистам, но и всем, кто желает просто больше понимать в собственной культуре, задумывается о собственном грамотном использовании языка (без чего, кстати, нельзя считаться просто культурным человеком), об этимологии слов, пришедших из древних языков, тоже может открыть чрезвычайно много интересного, в том числе из истории формирования человеческих сообществ, их миграций.
Знание этимологии современных терминов необходимо для понимания их значений. Цитаты на латыни, греческом, санскрите приводятся в публикациях современных авторов в подтверждение их мыслей и служат маркерами культурной ценности мыслей, которые этими цитатами аргументируются. Индийские культурные реалии (религию, философию, искусство, политику) вообще невозможно понимать без обращения к санскриту, поскольку традиционная индийская культура выражала и рефлексировала себя в санскритской литературе, которая продолжает служить неиссякаемым источником слов и идей для индийской современности. Да и не является санскрит мертвым языком: согласно переписи населения, проводившейся в Индии в 2001 году, 14 135 человек указали, что санскрит является их родным языком. В городе Майсур штата Карнатака выходит газета на санскрите — «Судхарма», цель которой — поддержание и распространение санскрита. Она распространяется по почте, ее подписчиками являются преподаватели санскрита и студенты-санскритологи. На нее, кстати, можно подписаться.
Дмитрий Комиссаров
— Один мой коллега шутя называл подобные вопросы оскорбительными.
Чтобы ответить на вопрос о том, зачем нужен санскрит, я обращусь к буддийской концепции двух истин — относительной и абсолютной. Относительная истина лишь приближает человека к пониманию некоего явления, но не выражает его таким, каково оно на самом деле, однако при этом относительная истина может быть воспринята многими. Абсолютная же истина объясняет явление во всей полноте, ничего не искажая, но постичь ее могут единицы.
Так вот с точки зрения относительной истины санскрит необходимо изучать по ряду причин. Санскрит, конечно, нужен как инструмент для некоторых исследователей: специалистов по индийской литературе (причем как древней и средневековой, так и новой), специалистов по истории Индии, лингвистов, искусствоведов, историков философии и прочих. Знание санскрита помогает более глубокому пониманию современных индоарийских языков, самый распространенный из которых — хинди. Знание санскрита и санскритской литературы углубляет понимание индийской культуры в целом, дает шанс уловить логику хранителей и творцов этой культуры. Санскрит, безусловно, нужен последователям тех религиозных традиций, которые распространены или когда-то зародились на Индийском субконтиненте (буддизм, к примеру, третья по числу адептов религия России, и его полноценное изучение затруднительно без знания санскрита). Список сфер применения этого древнего языка можно продолжить.
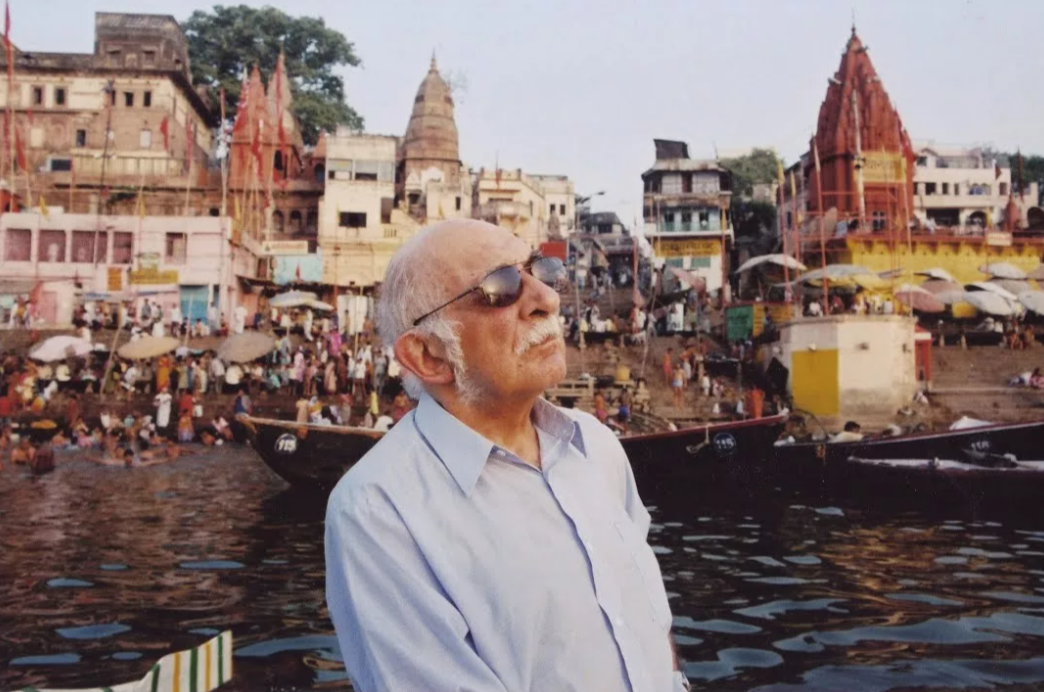
А чтобы выразить абсолютную истину о том, для чего нужен санскрит, я перефразирую знаменитого буддолога и тамилиста Александра Моисеевича Пятигорского (который, правда, высказывался о философии, но его слова, я уверен, применимы и к санскриту): «Этим следует заниматься не потому, что это нужно, и не потому, что это полезно, а потому, что это интересно; а “интересно” — это гораздо важнее полезного». Любопытство — это чудесное свойство человека, которое помогает ему расти. И университеты должны стремиться к тому, чтобы предоставить студентам и сотрудникам возможность заниматься тем, что их по-настоящему интересует, и тогда университет станет таким местом, в котором будут во множестве рождаться новые идеи, которое будет обогащать нашу культуру. Но если университет превратить в завод, производящий «полезный продукт» по заказу, то он неизбежно деградирует, — таково мое убеждение.
— С какими проблемами сталкиваешься при переводе текстов на этом языке?
Наталия Канаева
— Для философа санскрит важен для работы с первоисточниками, потому что именно они являются объектами изучения, а не их переводы, всегда являющиеся интерпретациями, переложениями смыслов оригинала. Интерпретации могут быть близки по смыслу к оригиналу, а могут вообще его искажать до неузнаваемости. Знания грамматического строя языка для адекватной интерпретации недостаточно. Об этом писали многие выдающиеся философы Европы и Индии: Фёдор Ипполитович Щербатской, Поль Рикёр, Бимал Кришна Матилал. Переводы философских текстов требуют «медленного чтения», буквально расшифровки свернутых или умалчиваемых индийцами смыслов, а также ориентации в разных философских традициях: в той, с языка которой переводишь, и в той, на язык которой переводишь. Для западного менталитета трудности понимания индийских текстов связаны еще и с тем, что индийские философы были утонченными интеллектуалами: они любили цветастые метафоры, игру слов, часто выражали сложные концепции в стихах. У них не было установки излагать мысли «ясно и отчетливо», как учит западных мыслителей сциентистски ориентированная философия, преобладавшая в Европе с XVII века. Поэтому очень часто первой реакцией на знакомство с индийским текстом бывает полное непонимание.
Индийские логико-эпистемологические тексты, которые я исследую, по общему признанию, создают наибольшие трудности в понимании (не случайно исследований в этой области несравнимо меньше, чем в других областях индийской философии), поскольку индийские философы ставили проблемы познания и использовали правила рассуждения иначе, чем западные: ни в одном из индийских трактатов нет полной, систематической и унифицированной экспликации логических правил. Ситуацию усугубляет и тот факт, что уже с древности в Индии разрабатывали многозначную логику. Попытки сблизить индийскую логико-эпистемологическую теорию с греческой, выявить заимствования индийцев у греков и греков у индийцев оказались безуспешными.

Дмитрий Комиссаров
— Бывает, сидишь и думаешь над каким-то фрагментом санскритского текста — проверил все слова по словарю, перебрал все значения этих слов, подробнейшим образом проанализировал морфологию и синтаксис, много раз проговорил про себя контекст, учел жанровые особенности текста, а смысл все равно не складывается. Тогда идешь усталый домой, ужинаешь, спишь, а потом утром возвращаешься к этому тексту и вдруг все понимаешь. А бывает, что понимание приходит только через неделю или две. Думаю, это знакомо многим санскритологам, очень уж типична эта ситуация. Дело в том, что санскрит имеет долгую и богатую историю, он представлен чрезвычайно обильной лексикой, невероятным разнообразием стилей и жанров. Чтобы, к примеру, читать философские трактаты на санскрите или санскритскую поэзию, необходимо уделить много времени тому, чтобы познакомиться с соответствующими стилистическими особенностями языка, иначе рискуешь ничего не понять в выбранном для чтения памятнике.
Однако, помимо проблем, исходящих из природы самого языка и его текстов, существуют, конечно, и проблемы «бытового» характера: нехватка профессиональной литературы в российских библиотеках, отсутствие доступа ко многим рукописям, некоторая изолированность российских ученых от мирового санскритологического сообщества... Надеюсь, в обозримом будущем ситуация изменится в лучшую сторону.
— Планируете ли в дальнейшем новые исследовательские проекты, связанные с этим языком?
Наталия Канаева
— Да. Уже много лет я пытаюсь перевести с санскрита книгу известного индийского скептика Джаяраши Бхатты (VIII–IX вв.) «Таттвопаплавасимха» («Лев, [опрокидывающий] препятствия [к правильному пониманию] категорий»), но дальше первой главы пока не продвинулась. Перевод с санскрита — трудоемкий процесс, а времени, как всем, не хватает.
Дмитрий Комиссаров
— Надеюсь, я смогу заниматься исследованиями, связанными с санскритом, до конца своих дней. В данный момент мы с моей старшей коллегой Наталией Александровой работаем над переводом «Лалитавистары» — канонического жизнеописания Будды. Я сам занимаюсь исследованием одного из эпизодов жизни Будды, и моя работа основана в том числе на санскритских источниках. Совместно со студенткой магистратуры Маргаритой Минаевой мы издаем и переводим средневековые санскритские комедии — очень увлекательное занятие, но и очень сложное, поскольку понять чужую смеховую культуру часто бывает непросто. Но, как я уже говорил, именно эти сложности и притягивают. Это ощущение схоже с тем, когда все на свете проклинаешь, из последних сил забираясь на какую-то высокую гору, но вот перед тобой открывается другая, еще более высокая вершина, и она манит тебя к себе сильнее прежней, и тогда ты забываешь о тех муках, которые только что одолевали тебя.

