- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
«Настоящая урбанистика — это научная дисциплина и в то же время практическое ремесло»
Dasha Shlykova / Российская академия транспорта
профессор, научный руководитель факультета городского и регионального развития и Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ
Об истоках академической карьеры, зарождении российской урбанистики, градостроителях и градоустроителях, транспортной науке и парадигмах городской мобильности с древности до наших дней.
— С чего начиналась ваша академическая карьера и как вышло, что вы стали урбанистом?
— Давным-давно я поступал на мехмат МГУ. Тем же летом 1965 года мой приятель поступал в Московский архитектурный институт. Честно говоря, я тоже туда хотел поступить, но там на первом вступительном экзамене надо было нарисовать греческую голову карандашом, а я не могу нарисовать даже кошку. Так я не попал в МАРХИ. Но моя жизнь на младших курсах была связана с этим институтом до такой степени, что, когда я уже стал известным человеком и выступал в качестве рецензента или оппонента на каких-то диссоветах в МАРХИ, я слышал реплики: «Этот седой с нами на одном курсе учился или курсом младше?» То есть я в этой среде вращался со студенческих лет. Дальше я собирался поступать в аспирантуру мехмата, но на вступительном экзамене по истории КПСС мне поставили 3 балла и отправили на все четыре стороны. Так я не остался на мехмате и попал в конечном счете в дорожную, транспортную отраслевую науку.

— Как зарождалась российская урбанистика? И в чем была ее принципиальная новизна?
— На рубеже 1980–1990-х годов, впервые с 1920-х годов, снова возникло профессиональное объединение советских урбанистов: в 1920-е годы оно называлось Объединение архитекторов-урбанистов, в 1987-м — Советское общество урбанистов. Оно просуществовало всего несколько лет, до 1992 года: сначала не было урбанистов, потом не стало Советского Союза. Эту институцию возглавил академик Юрий Петрович Бочаров, с которым мы тогда же и познакомились. Еще раньше я познакомился с Александром Ивановичем Стрельниковым — это единственный в России крупный транспортный ученый, всю жизнь работавший с архитекторами и градостроителями. В свое время он сделал расчет изменения трафика после воссоединения Западного и Восточного Берлина, который полностью отличался от расчета немецких коллег, и именно его, а не их прогноз оказался правильным. Примерно в это же время я возобновил отношения с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым, с которым мы были знакомы с каких-то незапамятных времен. И сюда добавилось знакомство с Александром Аркадьевичем Высоковским и Марком Григорьевичем Мееровичем. Эти пятеро человек, собственно, и создали то, что сейчас называется отечественной урбанистикой. И все они, так получилось, были моими личными друзьями. Юрий Петрович вообще был ближайшим другом нашей семьи и к тому же нашим соседом, наши семьи вместе встречали каждый Новый год.
Все они вышли из советской школы градостроительства. Бочаров — академик РААСН[1], автор фундаментальных учебников по проблемам градостроительства. Высоковский был очень известным в архитектурном мире человеком, сотрудником классического в своем жанре проектного института имени Мезенцева. В чем же заключалась новизна их подхода?
[1] Российская академия архитектуры и строительных наук (прим. ред.).

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вернемся во времена Российской империи. Тогда, согласно строительному уставу, планировкой городов должны были заниматься городские инженеры. Это были очень хорошо выученные люди, которые сами себя называли городскими планировщиками, градоустроителями, представителями того, что сегодня обозначается понятием urban planning, city planning, но не градостроителями. Объяснение этому дал Вячеслав Глазычев в одной из своих статей. Градостроителем считался Петр I: «здесь будет город заложен назло надменному соседу». Градостроителями впоследствии были генеральные секретари, принимавшие решение заложить на пустом месте город Комсомольск-на-Амуре, где должны строить самолеты. Градостроителями были Синаххериб в VII веке до нашей эры, а сейчас — наследный принц Саудовской Аравии, строящий город Нео. Вот они — градостроители: они строят города. А планировкой городов занимаются скромные люди — городские инженеры, градоустроители.
В чем разница? В 1910 году вышла фундаментальная монография «Планировка городов», которая стала моей настольной книгой. Ее автор Григорий Дмитриевич Дубелир сформулировал, в чем состоит смысл градоустройства. Смысл градоустройства в том, чтобы найти, не вербально, а на плане конкретного города, некоторый консенсус между прежними землевладельцами, новыми застройщиками и городским сообществом в целом. При планировке города нужно учитывать интересы конкретных собственников земельных участков и жилых единиц, — раз. Город не живет без инвестиций, соответственно, он должен привлекать новых застройщиков, — два. И самый главный актор в городе — городское сообщество в целом, — три. Это абсолютно фундаментальное понятие градоустройства, как оно формулируется в современных зарубежных учебниках. Но Дубелир не считал себя изобретателем формулировок, он говорил об этом как о чем-то естественном. И таким же был подход моих друзей, заложивших основы российской урбанистики. В этом и состояло его принципиальное отличие от концепции советского градостроительства.
Дальше начинаются отличия чисто технологического свойства. К какой мобильности город адаптирован; как он находит этот компромисс между сохранением художественного образа города и удовлетворением его меняющихся потребностей: прокладыванием новых коммуникаций, транспортных сетей и т.д.? Как находить этот компромисс между взглядом на город архитектора, художника, творца и рациональным взглядом планировщика, который обязан считать балансы, пропорции, мобильность и т.п. Это сочетание гармонии и алгебры и является как раз сутью дела, которая потихонечку осознавалась как предмет урбанистики.
Есть такой замечательный человек — Хосеп Асебильо, который, будучи главным архитектором города, перестроил Барселону к Олимпийским играм 1992 года. Он говорил, что в городе, построенном без расчета, без алгебры, без того, что называется urban planning, жить будет невозможно, но в городе, построенном без креативной идеи архитектора, того, что называется urban design, жить будет можно, но не нужно.

— Как вы пришли в Вышку?
— В 2011 году у меня была очень интересная общественная работа. Правительство назначило меня начальником транспортного цеха проекта «Стратегия-2020». Научными руководителями этого проекта были Ярослав Иванович Кузьминов и Владимир Александрович Мау, соответственно РАНХиГС и Вышка. Там были разные экспертные группы: финансы, экономика, здравоохранение, образование и т.д. — всего 21 цех, и я возглавлял один из них. В этой рабочей группе я познакомился с Ярославом Ивановичем и Владимиром Александровичем, и каждый стал звать меня к себе. К этому времени у меня уже был опыт почти 20-летней работы консультантом в частной консалтинговой фирме из двух человек, где я чувствовал себя совершенно свободно, надо мной не было никакого начальства, контрактов хватало, слава богу. И тут вдруг меня уговаривают два университета. Я встретился с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым, который работал в РАНХиГС: «Слава, меня зовут туда и туда. Куда идти?» Он говорит: «Миша, к нам не иди. У нас бюрократия жуткая». — «А как же ты выдерживаешь?» — «Мне легче, я памятник». Он человек с большим юмором был.
В итоге я согласился работать в Вышке, делать свой институт. Он до сих пор существует — Институт экономики транспорта и транспортной политики. Название придумал Ярослав Иванович. Дали нам несколько комнат на Покровском бульваре, но не в нынешнем шикарном здании; Вышка тогда арендовала считанные квадратные метры в каком-то трехэтажном домишке. И вот там на лестнице я однажды встречаю Александра Аркадьевича Высоковского, и он мне говорит: «Миша, а ты в Вышке работаешь? Сейчас кончатся каникулы, выходи, будешь у меня лекции читать». Я говорю: «Саша, про что я буду читать лекции?» — «Ну что я за тебя буду придумывать?» Разговор происходил зимой 2011/12 года. В итоге я обнаружил, что уже стою в расписании. Собственно, так началась моя деятельность в Вышке по преподаванию урбанистики. Я не набрался наглости преподавать что-либо кроме транспортного планирования (хотя меня всю жизнь интересовал гораздо более широкий контекст), и, в общем, мне это дело более-менее понравилось.

— Как вы придумывали программу своей дисциплины?
— Это интересная история. В принципе, в России транспортная наука уже существовала. Но этот традиционный для зарубежной практики стиль согласования между транспортом и градостроительством, между transportation planning и urban planning, у нас вообще отсутствовал. И нужно было понять, как рассказать студентам про эту связку мобильности и существования города. Вот это, собственно, я и придумал со своими друзьями и учениками.
С древних времен до наших дней парадигма городской мобильности менялась всего три раза. Первый раз в XVII веке, когда возникла идея общественного транспорта. В 1645 году Николас Саваж основал в Париже при гостинице Hôtel de Saint Fiacre контору по найму 4-местных пассажирских карет и заодно придумал каршеринг и такси по заказу, только с лошадьми. В это время еще курьеры бегали — никаких телефонов не было. Но решающее событие произошло еще через двадцать лет. В 1661 году Блез Паскаль пишет письмо своему другу и покровителю герцогу де Роанне, приближенному короля Людовика XIV, о том, что надо бы организовать в Париже движение регулярных пассажирских карет, работающих по заранее объявленным маршрутам и расписаниям. То есть раньше транспортные дилижансы ждали, пока наберется достаточно пассажиров, чтобы отправиться. А Паскаль предложил идею транспорта, который едет по расписанию, даже если пассажиров нет, и по единому тарифу — 5 су. Это определение Паскаля годится для любого вида общественного транспорта: общедоступная пассажирская карета, которая едет по заранее объявленному маршруту и расписанию. Маршрут не зависит от пожеланий пассажиров, он заранее объявлен; также и отправление производится строго по расписанию. И в 1662 году первые такие кареты вышли на маршрут. Это была первая революция, переход к Mobility 2.0 — появление общественного транспорта как институции. Всего чуть больше 360 лет прошло!

Вторая революция — переход к Mobility 3.0 — случилась совсем недавно, когда в 1908 году Форд начал выпускать массовый автомобиль, черный «Форд Т». До этого везде, от фараонов до Нового времени, от Синаххериба и до Питера эпохи Анны Карениной, количество индивидуальных экипажей в городе на 1000 жителей было очень маленьким — 6–8, максимум 10 штук. Почему? Для того чтобы содержать индивидуальный экипаж в городе, надо иметь свой каретный сарай, свою конюшню, персонал конюхов, то есть это атрибут даже не бизнес-класса, а лакшери, самых богатых людей. Представляете, в городе иметь свою конюшню! С появлением «Форда Т» количество автомобилей на 1000 жителей от считанных единиц сначала перевалило за сотню, а затем достигло 200, 300 и т.д. Сегодня есть города, где автомобилей больше, чем людей. У Бродского есть такие строки: «И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили». Мне как-то случилось остановиться с внуками в городе Остине, и там в рекламной брошюрке в гостинице было написано, что на 1000 жителей в городе приходится более 1000 автомобилей, то есть автомобилей больше, чем самих жителей.
Итак, вторая революция — всплеск индивидуальной мобильности вследствие появления массового автомобиля. И последние двадцать лет на наших глазах происходит третья революция, переход к Mobility 4.0 — Digital Age Transportation, перевозки цифрового века. Причем в этой области все устроено так, что появление новой парадигмы не отменяет прежней. В третьей революции массовая индивидуальная мобильность и массовая общественная мобильность получают цифровую упаковку и приобретают новое качество.
Как мы вызывали такси до появления мобильных приложений? Либо голосовали на улице, либо дозванивались в диспетчерскую и оставляли заказ: «Мне завтра надо ехать в аэропорт, запишите...» А как раньше покупали билет на самолет? Нужно было ехать в кассы «Аэрофлота» либо непосредственно в аэропорт. Так же и с железнодорожными билетами: нужно было ехать на вокзал. Сегодня просто другая эпоха, согласитесь. Или, например, как раньше автомобилисты искали дорогу в незнакомом городе, даже в незнакомом районе? Была такая книжечка — атлас дорог, и человек сначала искал нужную улицу в алфавитном перечне, затем по указанным там координатам на карте смотрел, как лучше проехать. А сейчас я включаю навигатор, и там приятный женский голос говорит мне: «Через полтора километра поверните направо». Это всё следы Digital Age.

Я уже не говорю про каршеринг, который оставался экзотикой даже в автомобильную эпоху и практиковался в основном в небольших университетских городках. То есть сам каршеринг-то был, но, пока не было мобильных приложений, пользоваться им было неудобно. Чтобы взять автомобиль напрокат, нужно было пешочком, своим ходом добраться до маркированной парковки безо всяких гарантий того, что там есть свободный автомобиль. А затем надлежало вернуть его на эту же парковку, иначе его никто не найдет. С появлением мобильных приложений каршеринг стал массовой услугой и чрезвычайно популярной.
Но самая грандиозная революция происходит там, где обыватель не видит. Скажем, функционирование контейнерных терминалов или Московского метрополитена без цифровой упаковки было бы невозможно, движение бы немедленно стало. В этом терминале миллион контейнеров, и каждый едет к своему хозяину, в разные точки мира. И без программного обеспечения, которое обслуживает эту штуку, просто не работало бы ничего. То же самое касается управления логистикой Московского метрополитена, где 6000 вагонов гоняют по гигантской сети, да еще с частотой 40 поездов в час. Это сравнимо с управлением космическими полетами. То есть даже те форматы, которые существовали испокон веку, в процессе цифровой революции поменялись невероятным образом, просто невероятным.
— В чем особенность российской академической урбанистики по сравнению с другими науками?
— Это тяжелый и сложный вопрос по одной простой причине. Во всем мире урбанист — это «специалист в области городского планирования». Такое определение дает, в частности, американский толковый словарь английского языка Merriam-Webster, и, в принципе, это классическое словарное значение слова. В России слово «урбанист» стало ругательной кличкой. Урбанистами себя называют полуграмотные мальчики и девочки, ведущие веселые блоги или рассказывающие о велодорожках. Так же как с экологом: по идее, эколог — это специалист по физике атмосферы, эволюционной биологии и другим столь же фундаментальным наукам, а у нас это сплошь и рядом болтун, и урбанист — болтун.
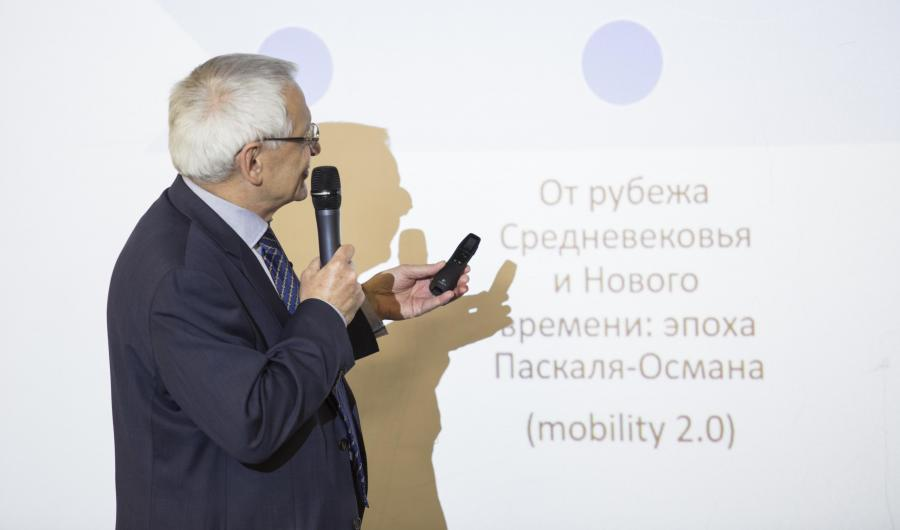
Настоящая урбанистика — это научная дисциплина и в то же время практическое ремесло: и то и другое. Во всем мире она отделилась от собственно архитектурного ремесла лет шестьдесят назад. В России этого разделения не произошло. У нас в паспорте специальностей урбанистика — до сих пор часть архитектурной компетенции. Факультеты, с которыми мы в мирное время дружили, обычно называются Human Geography and Planning, то есть «общественная, гуманитарная география и городское, региональное планирование». В некоторых случаях городское планирование — это часть компетенции, которая у нас называется ГМУ (государственное и муниципальное управление), в других случаях — самостоятельная дисциплина. Главное, что это разделение состоялось. У нас оно не состоялось, и это методически и организационно очень тяжелая штука. Из-за этого мы не можем создать свой ученый совет: архитектуре мы не учим. Мы выдаем дипломы по «градостроительству» — ничего другого мы писать не можем. Есть ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), и там написано большими буквами, что урбанистика — часть архитектурной компетенции. Со временем это должно как-то решиться — институционально, а потом и организационно. А пока наши аспиранты поступают в аспирантуру по ГМУ. Может быть, со временем мы объединимся с географами, не знаю.
Чему мы учим? Урбанистика — это мультидисциплинарная специальность. Для того чтобы заниматься градопланированием, нужно как минимум понимать про экономику города — иначе бессмысленно дальше разговаривать, про социологию города — чтобы уметь согласовать интересы тех, кто в нем живет, тех, кто инвестирует, и городского сообщества в целом. Дальше начинаются хардовые специальности типа ГИС-технологий, технологий геоинформационных систем, которые позволяют оперировать с картой города более технологично, чем это делали люди сто или пятьдесят лет назад. Если ты не умеешь оперировать с картами города современными средствами, то у тебя просто нет профессии. А если, скажем, человек склоняется к транспортному планированию, его еще надо научить транспортному моделированию: пониманию того, как распределяются потоки между метро и автомобилем, как автомобили стоят в пробках, при каких условиях люди пользуются электричками. Это все серьезные специальности, где надо знать формулы, знать подходящий софт, уметь пользоваться им.
Дальше идет социокультурная оболочка. Если ты не понимаешь, что город — это еще и некий образ, некоторая история, не понимаешь общекультурного контекста, то, в общем, ты довольно тупой ремесленник. Кроме этого, надо еще понимать то, чем географы занимаются уже сто лет: как устроены города с точки зрения географии и с точки зрения ключевых балансов и пропорций. Грубо говоря, как устроен город? Зеленым цветом на карте обозначены парки, бульвары, серым цветом — асфальт, а голубым — места проживания людей. И надо понимать, как, в каких пропорциях эти три цвета сочетаются. За этим стоят очень серьезные расчеты и некоторое представление, которое я бы назвал эстетическим, гуманитарным, потому что одно без другого не живет.
К примеру, такой показатель — плотность застройки: сколько квадратных метров жилья приходится на 1 гектар земельного участка и какую долю этого участка занимает «подошва» зданий. А дальше нужно понимать, сколько у меня места для автомобилей. Место для автомобилей имеет ровно два смысла. Во-первых, это где автомобиль едет, то есть какую часть города занимает общедоступный асфальт: шоссе, переулки, проспекты, улицы — всё вместе. Соответственно, по этому параметру города делятся на те или иные кластеры с характерными пропорциями. Есть города североамериканского типа, где под асфальт отдано 30–35% застроенной территории, то есть треть города асфальтирована. Есть города европейского типа, которые пережили большую автомобильную революцию в середине прошлого века, после Второй мировой войны. И сейчас какой-нибудь Париж или Мюнхен асфальтированы в среднем в пределах 20–25%. В Москве в конце советской эпохи было 9%. Грандиозными усилиями правительства Собянина стало 12%. А для того, чтобы выйти хотя бы на европейский тип, надо 24–25% минимум.

Этих пропорций в Москве никогда не будет, хотя Москва потратила на дорожное строительство огромные деньги. Потому что это уже упирается не в деньги, а в интересы жителей. Когда строилась северо-восточная хорда, я был членом Общественной палаты сначала России, потом Москвы, и мне приходило три потока писем. Те, кто жил с правой стороны, писали: мы не разрешим идти хорде по Кусковскому парку. Те, кто с левой стороны, со стороны Волгоградского проспекта, писали, что не хотят эстакаду у себя под окном. Но самой многочисленной была третья группа корреспондентов — те, кто купил себе жилье за МКАД и выступал за то, что дорога нужна. И какой выход? Дорожное строительство в Москве сталкивается именно с такими проблемами. Потому что город продолжает формироваться исходя из того, как он начинал формироваться, и каждая большая дорожная стройка неизбежно вызывает конфликт. Изначальные пропорции можно чуть-чуть сдвинуть, хотя это очень дорого и сложно, но коренным образом их изменить нельзя. Эти вещи нужно рассказывать детям.
Все это мы стараемся своим студентам объяснить. На все эти темы у нас ведутся какие-то исследования. У нас преподает Татьяна Гудзь, которая занимается правовой «упаковкой» города. Надежда Замятина занимается географией отечественных городов за Полярным кругом, и там совсем другая экология. Дмитрий Наринский изучает город с позиции архитектора. Про ГИСы можно поговорить с Русланом Гончаровым, который сейчас руководит Школой урбанистики. Наш декан Евгений Михайленко — экономист со степенью, много лет занимавшийся электоральной социологией; его тема — взаимоотношения горожан и власти, и здесь он абсолютный инсайдер. То есть у нас работают люди самых разных специальностей.
— По ощущениям, как раз европейские города остались более-менее неизменными для пешехода, а вот по Москве теперь можно гулять только в пределах Садового кольца.
— Вы коснулись одной из фундаментальных вещей, которые мы обязаны рассказывать и рассказываем нашим студентам. Потому что наш просвещенный мир лет восемьдесят назад определился, что в городе бывают улицы и бывают дороги. Улица — это элемент общественного пространства, предназначенный для пешехода и общественного транспорта, где по тем или иным правилам можно пустить автомобиль. Дорога — это тоже инженерный элемент общественного пространства, но такой, на котором пешехода быть вообще не должно. Это принципиальная разница. В Москве исторически не было дорог.
Помню, еще в прежние времена, когда и нас приглашали на Запад, и западные ученые у нас бывали, везу я по Москве своего приятеля, американского профессора, большого специалиста по городской планировке. Выруливаем с Комсомольского проспекта на Зубовскую площадь, и спрашивает он меня: «Майкл, what is it?» По количеству полос, на Зубовской площади их 18, это хайвей, скоростная автомагистраль. Но троллейбусы ходят, пешеходы на тротуарах — это улица. Так что это — улица или дорога? Я смеюсь: «Ну вот так Москва устроена». И он говорит про эту улицу: «Это не мальчик (дорога), не девочка (улица), а гибрид». И в Москве эти проектные гибриды — преобладающая штука. В Москве полноценные дороги — это кусочки 3-го транспортного кольца, пока мы не выедем с вами на Беговую, и новые хорды. А, например, Садовое кольцо — это гибрид. Как устроено движение в любом хорошем европейском городе? Там есть магистральная сеть, это чистой воды дороги, на них нет пешеходов, это чисто транспортное сооружение. В Париже их навскидку где-то километров пятьсот; они идут эстакадами, туннелями, вдоль берега реки и т.д. И есть улицы; улицы, какими были изначально, такими и остались. Это два разных контура, и их нельзя смешивать.

— Насколько российская урбанистика — самостоятельная наука? И какую роль в ее становлении сыграла зарубежная урбанистика?
— Есть два опорных камня российской урбанистики. Первый — это то, что писали наши прадедушки в период с 1900 по 1920 год, русская урбанистика до Октябрьского переворота. Там есть несколько совершенно замечательных имен, прежде всего, конечно, Григорий Дубелир. На самом деле советская урбанистика, советское градостроительство начинается с Пленума ЦК ВКП(б) в июне 1931 года, посвященного утверждению Генерального плана реконструкции Москвы. До начала 1930-х годов де-факто действовал Устав Российской империи. На него, конечно, не ссылались, но ничего другого не было, и им пользовались. А с 1931 года начинает реализовываться вся эта идеологизированная концепция советского градостроительства. В чем было принципиальное отличие ее доктрины? Ты, архитектор, должен сделать красиво, а сколько квадратных метров строить, где селить людей и где промзона — это тебя, собака, не касается, это решит Госплан. А уж чего там хочет население… партия лучше знает, чего хочет население. То, что в такой парадигме, абсолютно идиотической, выжила профессия, так это просто народ талантливый. Куда его ни загони, всегда найдутся талантливые люди, которые что-нибудь придумают. Поэтому я последний человек, который кинет камень в градостроительство советской эпохи. В этой парадигме было очень трудно работать, но что-то хорошее тоже делалось; соответственно, и этот пласт тоже надо изучать. Это второй опорный камень.
А уж о том, что делается в мире и что делалось в истории, у советских ученых были блестящие работы. В частности, у меня есть любимая книга Ивана Сергеевича Николаева «Акведуки античного Рима» (1947) — фантастически интересная.
Западная урбанистика до каких-то решений додумалась раньше, ну и слава богу, мы это будем использовать. В частности, зарубежные города гораздо раньше столкнулись с проблемой индивидуальной мобильности, то есть когда человек едет сам по себе, и на Западе этот показатель был заложен в генетический код профессии. А у нас не был заложен, потому что принцип планировки советских городов был известно каким: «наши люди в булочную на такси не ездят». Соответственно, в наших СНиПах было написано, что города надо планировать исходя из 50–60 автомобилей на 1000 жителей, а на дальнюю перспективу (как тогда говорили: после построения коммунизма) — 180 автомобилей. Но коммунизма не построили, и на 1000 жителей в Москве в 1990 году приходилось 80 автомобилей, а сейчас, если считать совсем грубо, по 77-му, московскому индексу, — около 400; но поскольку по Москве ходят автомобили не только с московскими номерами, то реально порядка 500. То есть число автомобилей в городе выросло с 80 до 500 — в 6 раз! А во Владивостоке оно приближается к 650. Это вообще другой мир, чем предполагалось при планировании. Этот фактор индивидуальной мобильности в советском градостроении был не то что второстепенный — не существовал вовсе. Потому что, понятно, 50–100 автомобилей на 1000 жителей архитектор может просто игнорировать: городов без улиц все равно не бывает, по улице троллейбусы ходят, 100 автомобилей уж как-нибудь разместятся. И дело не в том, что наши градостроители были глупыми или некомпетентными людьми, — такова была парадигма, в которой все тогда жили. К индивидуальной мобильности относились очень осторожно. Соответственно, и города к ней оказались не приспособлены.

Более того, самой идеи согласования интересов землевладельцев, частных застройщиков и городского сообщества в целом тоже не существовало. По объективным причинам: не было частных застройщиков. Этот фактор, пожалуй, даже поважнее фактора мобильности: это совершенно другая идеология.
Западная урбанистика на десятилетия раньше поняла, что автомобилю всегда и везде, что во Франции, что в Японии — где угодно, под землей или в многоэтажном паркинге, нужно 400 квадратных футов, то есть 37,2 м2 — для стоянки и въезда-выезда. И если у меня строится 30-этажный дом и на одного человека в нем приходится примерно 20 м2 жилой площади, то в городе, где на 1000 жителей приходится 400 автомобилей, к нему должен прилагаться еще 21 этаж подземного паркинга. С грустью констатируем, что таких подземных многоэтажных паркингов никто и никогда не строил. Куда же денутся автомобили, которые не поместятся в стандартном 2–3-этажном подземном паркинге? Будут пристроены во дворе и в окрестностях дома по принципу: два колеса на газоне, два — в пожарном проезде; это называется самозахватом общественного пространства. И на Западе люди додумались до того, чтобы делать такие пятна застройки, которые сразу чисто юридически объявляются car free development — застройкой, не предполагающей владение автомобилем. Все последние годы я объясняю на разных совещаниях, что надо вводить это понятие в наш Градостроительный, Гражданский, Жилищный кодексы. Хорошо иметь 2–3 автомобиля в условиях пригородного расселения американского типа, где молодая семья живет в односемейном доме и при доме — три парковочных лота. Там без этого не прожить, потому что до ближайшего общественного транспорта далеко, в школу, садик, магазин и т.д. — везде надо ехать. А если на месте пятиэтажного дома я ставлю дом в 32 этажа, то какой тут автомобиль! В таких вопросах, где шишки набили наши старшие товарищи за рубежом, мы, разумеется, должны перенимать опыт.
До недавнего времени мы поддерживали обширные контакты с зарубежными коллегами, вплоть до того, что наши студенты ездили в Париж на стажировку. Эти контакты, конечно, нужны, потому что прямое заимствование — штука абсолютно бессмысленная, а вот обмен идеями очень полезен.
Русская академическая наука и ремесло градопланирования, сформированное в рамках строительного устава Российской империи, условно в первые двадцать лет XX века; лучшее из наследия советского градостроительства; и, разумеется, опыт зарубежной урбанистики — вот три основных пласта, которые составляют фундамент современной российской академической урбанистики. И ни один из них нельзя игнорировать. То, что ушли от советской концепции, — слава богу. Но надо учитывать то, что писали наши коллеги в советские годы, там были замечательные люди. И от зарубежного опыта никуда не деться. Да и наш собственный, накопленный уже в постсоветскую эпоху опыт застройки — планировки — землепользования крайне ценен!
