- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
«Это приоткрывает для отечественного читателя средневековую Испанию»
доцент Школы философии
о книге, которая стала победителем Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ в 2023 году в номинации «Гуманитарные науки».
— Поводом для нашего интервью стала победа вашей книги «Хроника Альфонсо Х» в конкурсе научных работ в прошлом году. Как возникла идея этой работы?
— Самое интересное, что я этот перевод начал не то чтобы случайно, но в качестве отдыха. Дело в том, что я занимался довольно серьезно переводом работы Фомы Аквинского «О правлении князей». Я до сих пор им занимаюсь, это очень длинная работа оказалась, там довольно насыщенная, непростая латынь. И я в определенный момент понял, что просто устал от латыни, захотел переключиться, открыл бывшее у меня издание «Хроники Альфонсо X» и стал переводить. Просто так, по кайфу, для себя.
— С испанского?
— Со староиспанского. Это кастильский язык середины XIV века, а с учетом тех документов, которые включены в состав хроники, — с середины XIII по середину XIV века. Это период становления литературного испанского языка, который мне практически родной, и первое время я просто отдыхал за переводом. На тот момент я, конечно, не помышлял ни о какой публикации. И затянулся этот отдых года на три. Потом началась пандемия, и стало немножечко не до того. Плюс у меня росла дочь, и мне было тем более не до того; она и сейчас продолжает расти, но тогда был самый трогательный возраст — 2–3 года. Потом навалилось много всякой текущей работы, и мне опять было не до того. А в 2021 году я к этому делу вернулся. Мой замечательный коллега и, по счастью, мой добрый знакомый Алексей Карачинский, заместитель главного редактора издательства «Наука» и ведущий научный редактор в издательстве «Евразия», предложил мне эту работу издать. И тогда уже я стал ее доделывать под публикацию, и началась уже работа всерьез.

— Что вас интересовало в этой работе?
— Несколько вещей. Помимо удовольствия от староиспанского языка, с которым я работаю всю мою профессиональную жизнь и который стал мне уже родным, интересно было вот что. Когда я стал вчитываться, я понял, что хроника эта очень непростая. Она первая в цикле королевских хроник: хроника Альфонсо X, хроника Санчо IV, хроника Фернандо IV и, наконец, большая хроника самого Альфонсо XI. И во многом ее написали для того, чтобы легитимировать положение на престоле Альфонсо XI, правнука Альфонсо X. При работе над этим проектом канцлер двора Альфонсо XI Фернан Санчес де Вальядолид явно использовал документы из королевского архива, и получился практически «шар в шаре». Сама-то хроника создавалась в 1340-е годы, но туда вложена, например, переписка Альфонсо X и восставших против него магнатов с гранадским эмиром, к которому они сбежали. И эти тексты вложены в переводе XIII века с арабского на старокастильский. Там есть подлинное письмо Альфонсо X своему сыну, большое, очень развернутое, в котором хорошо видно то, что принято называть личностью короля, его личный взгляд. И вот эта многослойность хроники — это первое, что меня в ней заинтересовало.
Во-вторых, через эту хронику очень интересно смотреть на экономическую историю Кастилии. Больше того, на монетарную историю, на реформу денег, которую проводил Альфонсо X. Этот король, в отличие, кстати, от своих предшественников и от преемников, пытался добиться монетарного суверенитета — чтобы вся монета, которая ходит в стране, чеканилась бы в королевских монетных дворах. Это сейчас мы к этому относимся спокойно и, так сказать, штатно, а в Средние века это, вообще говоря, было по большей части неслыханно. Ходят монеты и ходят — какая разница, кто их отчеканил? А для Альфонсо Х было важно. И рассказ об экономических реформах, о монетарных реформах позволяет взглянуть на ту же самую, в общем-то известную, историю с совершенно других позиций. Приведу один маленький показательный пример. Мы знаем, что в 1271 году против Альфонсо X началось серьезное восстание знати. А почему именно в 1271-м? А что, до того испанские гранды были всем довольны? Но король ведь не изменился, он последовательно проводил эти реформы и раньше, он вел себя так же, как и раньше. Почему же они раньше не восстали? А если почитать внимательно хронику, это становится понятно. С 1252 года, когда он пришел к власти, и примерно до 1263 года он постоянно воюет, захватывая новые территории и раздавая их магнатам в качестве платы за верность. Где-то к 1263 году потенциал экстенсивного развития оказался исчерпан. Но к этому моменту все-таки захвачено много чего и самим Альфонсо Х, и его отцом, накоплены большие богатства, и он начинает раздавать деньги. К 1269-му заканчиваются деньги. Еще год уходит на ожидание того, что король, может, все-таки еще что-нибудь найдет. Когда стало понятно, что больше раздавать нечего, магнаты перестали скрывать свое недовольство политикой короля, началось восстание.

— А чем они были недовольны? Что, например, не нравилось его вассалам в суверенной монетарной политике?
— Не нравилось то, что король забирает под свою руку все доходы от добычи серебра, не жалует привилегию чеканки монеты. Это очень дорогая привилегия, за нее многое можно было купить, а он забирает ее себе. Он оттесняет знать от этого ресурса и, следовательно, от серьезного влияния на происходящее. Как выглядит монетарная жизнь в той же Кастилии при каком-нибудь Фернандо IV, после смерти уже даже не самого Альфонсо, а его сына Санчо IV? Там ходят одновременно монеты, отчеканенные Альфонсо, монеты, отчеканенные Санчо, порченые уже монеты из так называемого биллона — смеси серебра и меди, монеты арабские, французские, английские и что-то еще из немецких земель, то есть монеты разного веса, разного курса. И пока сохраняется эта монетарная сумятица, этот разнобой, любой магнат, обладающий юрисдикцией над какой-то значимой территорией, может играть на разнице курсов: прибирать одни монеты к рукам, а пускать в свет другие. А если установить монетарный суверенитет, единый монетный курс, на этом играть станет невозможно. И это вызывало очень серьезное раздражение.
В целом Альфонсо Х и своими законодательными проектами, и реформами опередил свое время. Он себя вел так, как положено было бы вести себя королю конца XV века: занимался собиранием королевства, установлением единой королевской власти, той самой пресловутой вертикали власти, — всем тем, чего средневековый феодальный король делать был не должен, а он делал. И, разумеется, вызывал этим уйму недовольства.
— Как бы вы оценили значение появления этой хроники на русском?
— Во-первых, эту работу надо рассматривать как часть того, что мы делаем вместе с коллегами, в частности с моим учителем Олегом Валентиновичем Ауровым. И моя «Хроника Альфонсо X», и вышедшая три года назад огромная, трехтомная «История Испании», созданная как раз по приказу Альфонсо X, то есть большая хроника предшествующей эпохи, и то, что еще делается и будет делаться дальше, — все это приоткрывает для отечественного читателя средневековую Испанию. В нашей медиевистической науке и в том, что можно назвать common knowledge, Испания традиционно находится на самой периферии. Об Испании мало пишут, об Испании мало знают. Взять хотя бы школьные или университетские учебники истории: где там Испания? Там рассказывается про Колумба и про Фернандо и Изабеллу, про то, что они спонсировали Колумба, что в действительности не так, но ладно, они хотя бы упоминаются. Еще немножко, может быть, говорится про испанскую инквизицию. С «золотым веком», веком Сервантеса, ситуация получше. Здесь есть переводы, работы прекрасных наших филологов в основном, не историков, но это уже более поздний период. А по средневековой Испании либо ничего нет, либо очень мало, а то, что есть, вызывает лично у меня много вопросов.

— Вы имеете в виду переводы?
— Я имею в виду именно переводы, мы же в своих исследованиях идем от переводов. Сейчас, например, я заканчиваю большую книгу про представление о королевской власти в Кастилии и Леоне, но эту книгу я пишу на основании каких-то своих переводов. Разумеется, не только. Разумеется, там куча источников, которые не переведены на русский и были прочитаны в оригинале. Но все, что можно перевести, надо переводить. Надо сближать культуры, давать возможность нашему читателю это прочесть.
Есть и другие соображения. Приведу простой пример. Не так давно, в 2012–2014 годах, Институт всеобщей истории выпустил двухтомную «Историю Испании», по необходимости обзорную, краткую, сжатую. У меня очень большие вопросы к 1-му тому этого труда, касающиеся и фактических ошибок, и ряда трактовок, часть которых я считаю несовместимыми просто со здравым смыслом. Какие-то из этих вопросов я отразил в нашей с Олегом Валентиновичем совместной рецензии на этот 1-й том, опубликованной в журнале «Средние века» (№ 75, 2014). Но как мне объяснить свои претензии? Мне скажут: если можешь, сделай лучше. Вот я и делаю что могу. Во-первых, переводы, а во-вторых, какие-то работы на основе переводов; пока статьи, но, дай Бог, скоро выйдет и книга. И тот же Олег Валентинович Ауров работает точно так же: он сейчас заканчивает книгу, а до того было несколько больших переводных проектов.
— То есть речь о необходимости обновления традиций перевода староиспанских текстов?
Речь о создании новой традиции, потому что у нас никакой традиции не сложилось до сегодняшнего дня. Я говорю не про Сервантеса, а про более ранние тексты, XII–XIV веков. Были единичные переводы, и, как правило, не лучшего качества, мягко говоря, а школы перевода не сложилось. Не знаю, что получится у нас, но хочется верить, что сейчас мы закладываем фундамент этой школы. В конце концов, надо во что-то верить.
Здесь я добавлю нотку пессимизма, но мне кажется важным это сказать. Я, на самом деле, в ужасе от того, что в нашей стране происходит с гуманитарными науками в последние десятилетия. И я всерьез считаю, что то, что делаю я и мои коллеги, я сейчас говорю именно про переводы, очень важно. Понимаете, это то, что останется. Если мы хотим, чтобы у следующих поколений, у наших детей, внуков, правнуков, было то, из чего делать дальше науку, от чего отталкиваться, может быть даже от чего, отказываясь, уходить, то нужно делать переводы. Без этого фундамента все будет гораздо хуже. Тут я придерживаюсь такой сугубо консервативной логики. Я считаю, что, делая эти переводы, мы если и не создаем новое, то сохраняем какой-то фундамент для будущих поколений.
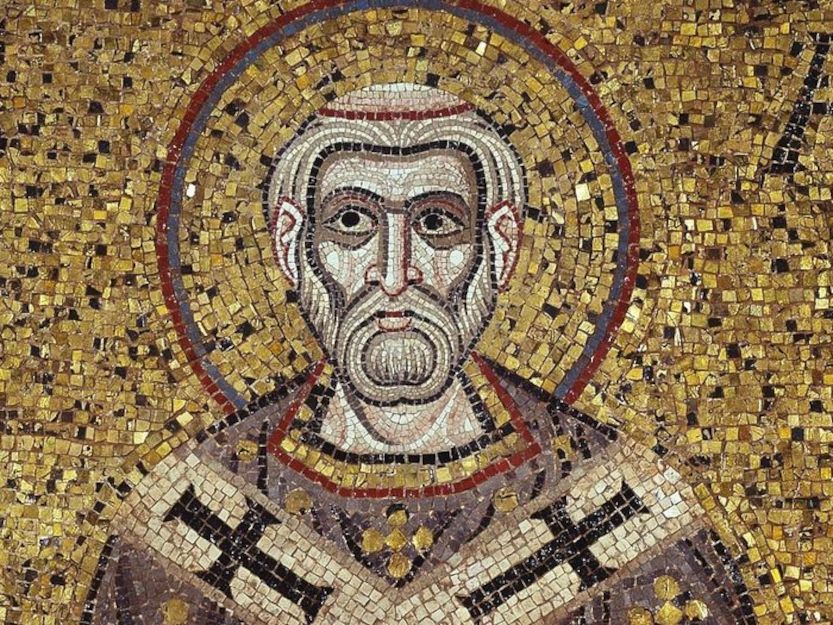
— Можете уточнить, в чем ваши претензии к сегодняшней гуманитарной науке?
— Прежде всего, переводится мало источников, и не только мало, но и слабо. Есть отдельные проекты, о которых хочется говорить, которыми хочется восхищаться. Например, относительно недавно созданное в Свято-Тихоновском университете латинско-русское полное собрание творений Амвросия Медиоланского, или «Нормандская хроника» Пьера Кошона, вышедшая в издательстве «Наука», или «История гражданских войн во Франции», 1-й том которой сейчас вышел в переводе Романа Львовича Шмаракова. Но, за исключением крайне небольшого — пальцев одной руки хватит — пула текстов, в нашей культурной политике существует принцип: один текст — один перевод. Например, перевод «Левиафана» Гоббса у нас один, он сделан в 1930-х годах. Про перевод «О Граде Божием» Августина я вообще молчу: мы до сих пор пользуемся переводом святых отцов Киевской духовной академии конца XIX века, а это просто национальный позор. Он не то что плохой, это перевод на уровне конца XIX века, то есть в любом случае безнадежно устаревший текст, он просто неадекватный, им пользоваться уже практически нельзя. Переводы должны обновляться. Переводы отражают актуальное состояние культуры. Есть такой проект, который я надеюсь когда-нибудь повторить на русском, — знаменитая кембриджская серия Cambridge Texts in the History of Political Thought, основанная некогда знаменитым британским историком Квентином Скиннером, такие синие томики в мягкой обложке с красными полосочками. Выпускается уже довольно много лет, вышло больше тридцати томов, или я сильно преуменьшаю. Это современные переводы самых разных классических произведений из архива политической мысли, от древности до Нового времени. Вот это то, что нужно.
Хочу быть понятым правильно. Есть принцип: перевод — это всегда интерпретация. Научный перевод — это никогда не голый текст. Это текст плюс авторские комментарии, плюс чаще всего еще какое-нибудь подробное вступительное или сопроводительное исследование. Кроме того, перевод — это та почва, на которой растут статьи в обожаемых нашими наукометрами рейтингуемых журналах разных категорий от A до D. Статьи же тоже не сами по себе вырастают: сел и написал, — нет. Ты делаешь какой-то большой проект, и статья возникает как побочный, промежуточный результат этого проекта: я нашел такую штуку, могу ею поделиться. Можно искать без переводов? Можно. Но тут вопрос: чего мы хотим достичь в относительно ближайшем будущем, скажем в ближайшие пятьдесят лет?

Есть очень простое соображение, подкрепляемое историческим наблюдением. Помните, Советский Союз называли шахматной державой, нацией шахматистов? Я это ощутил на себе в Европе, когда со мной многие отказывались играть, узнав, что я русский. Говорили: вы все там гроссмейстеры, мы даже садиться за стол с вами не будем. Почему? Потому что в каждой школе были уроки шахмат, в каждом дворе — шахматный кружок. И это давало сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов людей, знакомых с шахматной доской. Да, большая часть из них, 80–85%, недотягивала даже до самого нижнего из юношеских разрядов, но это и нормально. Зато 15% пошли выше, и из этих 15% еще 5% шли в мастера. Но если мы говорим про базу в десятки миллионов, то эти проценты от процентов — это уже не единицы. То же самое и с переводами.
Есть расхожая точка зрения: зачем переводить, надо читать в оригинале, что, вы, историки, не прочтете? Да прочтем, я прочту, коллеги прочтут. Но давайте зададимся вопросом: а сколько таких, как я? Я себя, конечно, очень дорого ценю и очень высокого о себе мнения, но сколько у нас в стране ученых такого класса, которые способны читать источники в оригинале? Наверное, счет на тысячи. Уже десятков тысяч на всю Россию не наберется. Переводы прочтет гораздо больше людей, чем оригиналы. Я уже не говорю о том, что перевод развивает родной язык, тот, на который переводишь. А я еще из той эпохи, когда книжные тиражи были по 50, по 100 тысяч экземпляров. Давайте не будем делать переводы, не надо, за них как бы и неохотно платят, и тогда через пятьдесят лет нынешнее состояние гуманитарной науки будет восприниматься как золотой век, потому что дальше будет пещерный. А давайте будем делать эти переводы, самые разные переводы. В последнюю очередь надо смотреть на то, важен этот текст или не важен, — оставьте историку решать, важен он или нет. Давайте сделаем этот банк переводов, которые смогут читать не тысячи, а миллионы человек. Тех самых студентов первого-второго курсов гуманитарных факультетов. Неважно, в каком формате, главное, что это будет по-русски и с грамотным комментарием. И из этих миллионов, понятно, отсеются в ноль те самые 80–85%, да пожалуйста. Оставшихся 15–20% нам все равно хватит, чтобы сформировать академическую элиту, и более многочисленную, и более сильную, чем мы имеем сейчас. И я очень хотел бы дожить до того момента, когда я, глядя на молодых ученых, смогу сказать: всё, я устарел, вот так, как они, я уже не могу и раньше не мог, они могут больше, чем я, они ушли дальше, чем я. И дай Бог, чтобы так и произошло.
