- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
«Хороший экономист — это экономист с глубоким бэкграундом»
Декан ФЭН Сергей Пекарский и ректор ВШЭ Никита Анисимов
Об академической карьере и связи состояния экономики с экономическим образованием, актуальных компетенциях экономистов и преимуществах экономического образования в НИУ ВШЭ, а также об академической мобильности, исследованиях, партнерствах и международных рейтингах рассказывает профессор Сергей Пекарский, декан факультета экономических наук.
— Как вы стали экономистом и деканом лучшего экономического факультета в стране?
— В школе у меня не было планов становиться ни экономистом, ни деканом. Я собирался учиться на физика. Но неудачно сдал вступительный экзамен по физике и в итоге не смог поступить в Физтех, куда хотел, и поступил в МИЭМ, который тогда был независимым вузом, на факультет прикладной математики. В это время там создавалась группа под названием «Экономическая кибернетика». Так, собственно, я стал математиком-экономистом. В 1996 году я поступил в магистратуру Вышки, и в 1998-м окончил одновременно два вуза, получив диплом математика-инженера в МИЭМ и экономиста в Высшей школе экономики. В отличие от многих моих одногруппников, я не видел себя ни программистом, ни бизнесменом. Попробовал преподавать — мне это понравилось. Тогда я остался на кафедре экономической теории в ВШЭ, окончил там аспирантуру и постепенно втянулся в различные академические активности. У меня развивался интерес к макроэкономике, к исследовательской деятельности. Вместе с коллегами мы строили новую кафедру макроэкономического анализа под руководством Льва Львовича Любимова, который был моим ментором и духовным наставником. Потом появилась образовательная программа в области макроэкономики, выпустились первые когорты студентов, и некоторые из них стали в дальнейшем моими друзьями и коллегами. Когда в результате реформы на факультете экономических наук (ФЭН) кафедры слились в департаменты, коллеги предложили мне возглавить департамент теоретической экономики, а позже и сам факультет. Я благодарен им за доверие.
Также я возглавляю Международную лабораторию макроэкономического анализа. Поскольку заниматься исследованиями лучше не в одиночестве, факультет старается стимулировать создание исследовательских коллективов: лабораторий, рабочих групп. В свое время, когда у нас набралась команда молодых макроэкономистов, естественным образом возникла идея объединить коллег, занимающихся макроэкономическими исследованиями. Так в 2006 году появилась Научно-учебная лаборатория макроэкономического анализа, которая позже стала международной лабораторией.
В 2021 году на ФЭН открылась магистерская онлайн-программа «Экономический анализ». Так как это новая, экспериментальная образовательная форма, я решил принять в ней активное участие: записал онлайн-курс и согласился выступить наставником трека по макроэкономике.

— Влияет ли состояние самой экономики на экономическое образование?
— Если говорить о состоянии экономики в терминах кризисов, спадов, подъемов, то такие явления на экономическое образование системно не влияют. Но влияет изменение структуры экономики. Прежде всего меняется мода на различные направления. Например, в 1990–2000-х годах было очень модно учиться на банкира. Потом стало понятно, что работа в банках не всегда многообещающая, да и количество банков в стране постепенно сокращалось, так что популярность этого направления несколько снизилась. Сейчас востребованы различные смежные с IT специальности, в частности экономический анализ с использованием современных инструментов науки о данных. В этом смысле изменение структуры экономики, то есть развитие одних секторов и деградация других, отражается на том, какого рода компетенции оказываются нужными студентам.
— И какого рода компетенции актуальны для сегодняшних экономистов?
— Хороший экономист — это экономист с глубоким бэкграундом. Мы учим наших студентов экономической теории и высшей математике не для того, чтобы они буквально применяли их в жизни. Знание микро- и макроэкономической теории, умение мыслить формализованно, строить самому или как минимум понимать, как строятся экономические модели, создают основу для системного экономического мышления. Это крайне важно. А дальше возникает много важных надстроек, связанных с различным экономическим инструментарием. Современный экономист, хорошо это или плохо, — это исследователь-технократ, думающий об экономике в терминах эффективности. И практически весь современный экономический анализ предполагает использование инструментария для работы с данными. Это и традиционные методы эконометрики, и новейшие методы работы с данными: машинное обучение, использование искусственного интеллекта и т.п. Развитие соответствующих навыков крайне востребовано в экономической профессии сегодня. Но при этом важно не забывать, что экономист — это прежде всего человек, который понимает, как устроена экономика. Работать с данными может необязательно экономист, а вот интерпретировать полученные результаты с точки зрения логики экономических процессов может только человек, получивший глубокое, фундаментальное экономическое образование.

— В чем отличия и преимущества экономического образования в НИУ ВШЭ?
— Экономических вузов, экономических факультетов, образовательных программ в области экономики в стране очень много. Я бы даже не побоялся сказать, что их слишком много. Хотя за последние двадцать-тридцать лет уровень профессорско-преподавательского состава в стране в области общественных наук в целом и экономики в частности вырос, во многих вузах экономика до сих пор преподается недостаточно качественно, коллегам не хватает компетенций. Это видно и по содержанию образовательных программ и учебных дисциплин, и по «научным» публикациям в тоже далеко не всегда качественных журналах.
В этом смысле факультет экономических наук, как и Высшая школа экономики в целом, сохраняет свои изначальные преимущества. Во-первых, это очень сильный коллектив. ФЭН собрал у себя действительно лучшие преподавательские и исследовательские кадры экономистов, финансистов, статистиков, математиков. Есть хорошие вузы, где тоже работают профессионалы, с которыми мы сотрудничаем. Но, по моей личной оценке как декана факультета, наш состав научно-педагогических работников является уникальным в терминах масштаба и уровня.
Другая особенность состоит в том, что Вышка имеет репутацию сильного вуза и поэтому привлекает сильных абитуриентов. Даже если бы мы со студентами ничего не делали, это все равно была бы элита нашей страны, потому что к нам идут наиболее мотивированные, наиболее талантливые дети. А мы делаем все для того, чтобы они стали профессионалами: отталкиваемся от лучших практик в области экономического образования, используем лучшие образовательные технологии и поддерживаем высокую планку качества обучения.
И третье, не менее важное соображение состоит в том, что на выходе наши выпускники находят работу в самых лучших компаниях. По статистике выпускники нашего бакалавриата и магистратуры получают очень высокие зарплаты, выше, чем у большинства наших вузов-партнеров и -конкурентов.
— Какие позиции для сегодняшних выпускников экономического факультета являются наиболее престижными?
— Среди наших выпускников есть и министры, и миллионеры, здесь можно было бы называть известные имена. Но, на самом деле, диапазон применения талантов у наших выпускников очень широкий: это и производство, и финансовая индустрия, и органы государственной власти, и частное предпринимательство. Хотя у нас есть и беспрофильные, и профилированные образовательные программы, мы не готовим узких специалистов ни в бакалавриате, ни в магистратуре — в этом мало смысла в быстроменяющемся мире. Напротив, мы готовим широкого специалиста, исходя из того, что главное качество нашего выпускника не те знания, которые можно получить за несколько месяцев на рабочем месте без всякого университетского образования, а та системная основа, которая позволяет в дальнейшем учиться на протяжении всей жизни. И это наше преимущество.
— Сотрудничает ли факультет в рамках учебного процесса с бизнесом и госструктурами?
— Да. Традиционно на факультете общение с работодателями двигалось по пути создания базовых кафедр, но пять лет назад мы расширили наш подход. Сегодня наша образовательная модель выстроена по принципу проектно-ориентированного обучения. У всех студентов начиная со 2-го курса бакалавриата в учебном плане обязательно стоит исследовательский проект. И мы стараемся, чтобы значительная часть этих проектов предоставлялась работодателями; сейчас их доля более 40%. Привлекая работодателей к проектной работе, мы знакомим их со студентами, а студентов — с будущей профессией. Наши партнеры — это и органы государственной власти, и различные финансовые институты, и компании из реального сектора экономики. Они предлагают студентам интересные проекты, которые не являются чисто учебными. Это не обычные задачи, которые можно решить по учебнику и предоставить единственно верный ответ, а некое исследование реального объекта, в котором заинтересован работодатель. Таким образом, работодатель получает возможность, с одной стороны, выносить на уровень университета свою исследовательскую деятельность, а с другой стороны, на ранней стадии познакомиться со студентами, с тем чтобы в дальнейшем пригласить на работу наиболее мотивированных и талантливых из них. У студентов такой подход тоже вызывает энтузиазм и желание эти задачи решать: они видят, для чего им нужны те или иные знания и навыки из учебных дисциплин. Более того, вместе с исследовательским проектом студент выбирает те учебные курсы по выбору, которые нужны для успешной реализации этого проекта. В этом, собственно, и заключается смысл проектного обучения: студент строит свою индивидуальную образовательную траекторию, изучая что-то не «на всякий случай», а под конкретный проект, ориентированный на экономические задачи из реальной жизни.
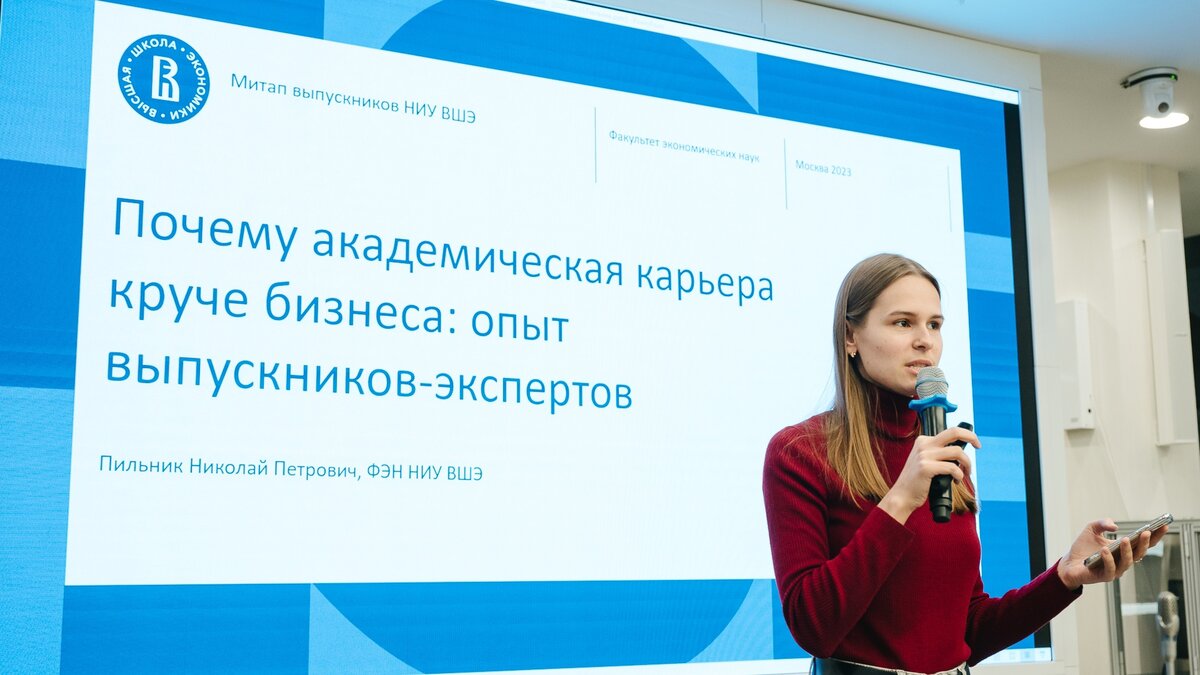
— В чем особенность экономических исследований?
— Понятно, что в любой научной области есть своя специфика в организации научной работы и подготовке публикаций. У экономистов таких отличительных моментов несколько. Можно их описать через сравнение. В отличие от, например, историков, у экономистов менее распространен жанр монографии. Доминирующий формат научной публикации — статья в журнале. Естественно, такой формат накладывает отпечаток на то, как проводятся экономические исследования. Действует простое правило: одна статья — одна основная идея. При этом, в отличие от, например, статей математиков, статьи по экономике достаточно объемные — в среднем 20–30 страниц текста.
Другая особенность организации исследований по экономике — очень кропотливая работа над текстами, начиная с первых набросков и выступлений на большом числе камерных и больших семинаров и нескольких версий препринтов и заканчивая несколькими раундами подачи в разные журналы, от самых топовых к менее престижным, а затем несколькими раундами правок в ответ на замечания рецензентов. В конечном итоге это означает следующее: от начала работы над статьей до момента ее публикации может пройти не несколько недель или месяцев, а год или даже два-три года. И хотя у активного исследователя в работе может находиться сразу несколько текстов, его производительность, если мерить ее числом публикаций, часто оказывается ниже, чем в других областях науки. Как член различных коллегиальных органов университета по организации научных исследований, я всегда отмечал необходимость учета этого аспекта в различных системах контроля и поощрения исследовательской активности.
Еще одно важное отличие: хотя в экономике, конечно, есть исследовательские коллаборации, численный состав таких коллабораций, как правило, два-три, максимум пять человек. В отличие от экспериментальных наук, в экономике практически не бывает таких исследований, которые проводятся несколькими институтами и список авторов которых достигает нескольких десятков человек. Это также накладывает определенный отпечаток.
С содержательной точки зрения и с точки зрения здравого смысла экономисты должны находить свои исследовательские вопросы, отталкиваясь от реальной жизни. Такие исследования наиболее интересны. С другой стороны, экономической науке важно развивать свою методологию и инструментальные методы. Таких исследований достаточно много. Наконец, исследователям, особенно молодым, проще что-то делать, отталкиваясь от авторитетной литературы, чем искать что-то совершенно новое; хотя последнее, вероятно, справедливо для многих наук.

— Как выглядит сегодня академическая мобильность на факультете?
— Чем традиционно отличалась академическая мобильность нашего факультета? С точки зрения географии она была нацелена прежде всего на Европу и Соединенные Штаты, что отражает факт концентрации передовых экономических исследований в западных странах, ставших сейчас в большинстве своем для нас «недружественными». Соответственно, академическая мобильность стала менее активной. Экономистов мирового уровня в странах Центральной Азии, в Китае, на самом деле, не так уж и много. Китайцы, например, в экономической науке встречаются довольно часто, но, как правило, они работают в американских и европейских университетах. Поэтому нам не так легко переориентироваться с западных стран на новых партнеров, это некоторый вызов для нас. Тем не менее мы стараемся это делать. Хотя многие наши институциональные связи были разорваны, большинство индивидуальных связей все же сохранилось. Можно по пальцам рук пересчитать неприятные кейсы, когда наши западные коллеги отказались от дальнейшей работы с нами ввиду печальных событий. В основном все продолжают сотрудничать, просто делают это не на институциональном, а на межличностном уровне и без активного информационного сопровождения. В этом плане многие мои коллеги продолжают готовить исследования совместно со своими западными соавторами. Также наши сотрудники и даже студенты продолжают ездить в западные университеты на международные конференции и на учебу. Логистика стала сложнее и дороже, поэтому интенсивность таких поездок снизилась, но не исчезла. И я уверен, что, как только обстоятельства позволят, ситуация здесь тоже должна нормализоваться и вернуться в свое привычное русло.
Есть еще один аспект: в условиях последней пандемии научные мероприятия вынужденно ушли в онлайн, в частности коммуникация коллег-соавторов. Но этот формат коммуникации показал свою эффективность. Так что сейчас исследователям уже необязательно лететь в другой город или страну, чтобы обсудить свои исследования. Также все более активно распространяются различные онлайн-курсы, онлайн-школы и т.п. Все это не отменяет, а скорее виртуализирует академическую мобильность.
— Какие задачи стоят перед факультетом в ближайшее время?
— Самая общая задача для факультета на долгие годы — оставаться лидером в своей области. Это непростая задача, хотя она может показаться кому-то банальной. Чем больше проходит времени, тем больше сокращается разрыв между нами и нашими конкурентами. Если сравнить то, как мы конкурировали с другими ведущими московскими вузами 10–15 лет назад, с тем, как эта конкуренция выглядит сейчас, разница ощутима. В принципе, это хорошо: в отсутствие настоящей конкуренции велик риск забронзоветь. Но это означает, что сегодня нам нужно прилагать больше усилий, чтобы оставаться лучшими и в преподавательской, и в исследовательской деятельности.

С точки зрения нашей основной, образовательной деятельности главный вызов, с которым мы столкнулись в приемную кампанию прошлого лета, и не только мы, а практически все лидирующие экономические факультеты, — это сокращение интереса абитуриентов к экономике и к общественным наукам вообще в пользу инженерии и IT. Почему это вызов для нас? Специфика экономического образования, предполагающего глубокую математическую подготовку, обуславливала нашу ориентацию на абитуриентов из сильных матклассов — с хорошим знанием математики, развитым логическим мышлением и т.п. И сейчас нам нужно убедить наших потенциальных абитуриентов в том, что машинное обучение, искусственный интеллект и прочие «модные» компетенции можно получить, учась на экономиста. Необязательно становиться программистом в чистом виде, если тебе интересны информационные технологии. Эти технологии все равно будут присутствовать практически во всех областях нашей жизни, и, естественно, они будут присутствовать в экономике и в финансах. Наша задача — вернуть интерес наших потенциальных абитуриентов к экономической профессии.
— Не секрет, что задача стать лидером приобрела значимость в связи с программой повышения международной конкурентоспособности российских вузов. Зачем сегодня, когда эта программа перестала быть актуальной, удерживать лидерство?
— Вхождение в топ-100 мировых рейтингов, с одной стороны, действительно было частью глобальной повестки университета, но вместе с тем оно было и частью локальной повестки. Собственно, внешняя оценка и интересовала нас главным образом с точки зрения расширения внешних партнерств и повышения глобального признания ВШЭ, а также привлечения иностранных абитуриентов. Но в процентном соотношении наш основной абитуриент — это, конечно, россиянин. Поэтому мы должны оставаться лидерами в образовательных рейтингах прежде всего внутри страны для того, чтобы к нам приходили наши лучшие абитуриенты, чтобы привлекать к себе наиболее сильную молодежь. Это важно и с точки зрения нашей образовательной деятельности, и с точки зрения воспроизводства научных кадров. В этом смысле радикально ничего не изменилось, и лидерство в нынешних обстоятельствах не менее значимо, чем раньше.
